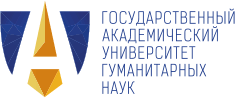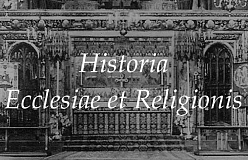В конце января 2022 года ГАУГН стал соорганизатором лекции доктора Фабиана Винигера, профессора и руководителя проекта духовной помощи университета Цюриха (Швейцария), «O договорах, поляризаторах и космопиетистах: глобальное здравоохранение и пост-секулярный поворот в Организации Объединенных Наций», которая прошла в формате public-talk.
Около 80% населения мира ассоциируют себя с той или иной религиозной верой – и, религия, в свою очередь, оказывает значительное влияние на поведение людей в отношении здоровья. Это наиболее очевидно в тех ситуациях, когда государственные учреждения недостаточно развиты, не пользуются доверием населения, религиозные лидеры являются авторитетными источниками информации, а местные религиозные общины несут бремя заботы о здоровье там, где светские учреждения не справляются со своими обязанностями. Во время пандемии COVID-19 широко распространенное недоверие к рекомендациям специалистов в области общественного здравоохранения создали условия для массовой дезинформации, политической оппозиции и социальных волнений. Несмотря на возможные преимущества кооперации, институты глобального здравоохранения, в частности, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), довольно долго не задавались вопросом о том, какую роль религиозные сообщества и их лидеры играют в здравоохранении, и как сотрудничество с ними может улучшить их работу.
Однако постепенно приходит понимание, что роль религиозных деятелей в разработке политики в области здравоохранения постепенно меняется. Опираясь на теоретические подходы в деятельности ООН, ВОЗ, Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), на мероприятии обсуждались вопросы о том, как в последние годы менялись нормы, касающиеся сотрудничества с религиозными деятелями, и концептуализировали возникающую модель религиозно-секулярного сотрудничества в области глобального здравоохранения.
По ходу дискуссии стороны подняли многие актуальные вопросы, связанные с осуществлением политики в сфере здравоохранения и влиянием религии на этот процесс. Представляем Вам наиболее содержательные моменты той насыщенной и интересной беседы:
Николай Саперкин, доцент кафедры эпидемиологии, микробиологии и доказательной медицины Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ):
Можно ли привести примеры наиболее успешных практик, проводимых религиозными организациями, по формированию позитивного и критического отношения к терапевтическим действиям и вакцинации COVID-19? Каковы основные трудности, возникающие при этом?
Фабиан Винигер:
Можно привести примеры успешных практик во время эпидемии Эболы, в частности разработку ВОЗ руководства по достойному и безопасному погребению жертв Эболы для стран Африки. В пандемию COVID-19 проблема критического отношения к терапевтическим действиям и вакцинации вышла на совершенно иной уровень. Например, в православных общинах Восточной Европы есть примеры людей (в том числе занимающих самые высокие позиции), до сих пор отказывающихся признавать само существование коронавируса и продолжающих проводить религиозные церемонии, невзирая на санитарно-эпидемиологические правила и рекомендации. Последствия такого отношения оказались фатальными для целого ряда людей. Проблема усугубляется тем, что религиозные деятели, как правило, очень влиятельны и их мнение настолько авторитетно, что их примеру следуют многие. Сейчас, во время пандемии COVID-19, делается очередная попытка разработать стратегию вовлечения лидеров религиозных общин в деятельность ВОЗ.
Наталия Шок, профессор кафедры социально-гуманитарных наук ПИМУ:
Как Вы видите соотношение между понятиями как «духовностью» (spirituality) и «религия» и их связь с исторической динамикой развития международного здравоохранения? Можно ли говорить о некой трансформации «духовности» со времени введения этого термина в употребление в ВОЗ и до настоящего момента? Не секрет, что со второй половины XX века и до настоящего момента сама система международного здравоохранения (или как принято сегодня говорить глобального здравоохранения) претерпела серию серьезных глубоких изменений, в том числе в период Холодной войны и после ее окончания. Повлияло ли это на перемены в отношении религиозности и духовности внутри ВОЗ? Что понятие «духовность» сегодня может дать системе глобального здравоохранения, на новом этапе его развитии в условиях пост-ковид?
Фабиан Винигер:
Термин «духовность» использовался ВОЗ на всем протяжении истории этой организации, начиная с 1-й Ассамблеи ВОЗ. Одна из причин этого – этот термин более гибкий, субъективный и понятный, менее институционализированный, чем вера или религия, поэтому большинству его оказывается легче принять. «Духовность» в общественном сознании в меньшей степени ассоциируется с негативными явлениями, событиями и процессами. Но она при этом может иметь много различных коннотаций и оттенков в зависимости от контекста. В последнее десятилетие отмечается рост интереса к понятию «духовности» в научной среде. Я не могу пока дать точного определения «духовности», предпочитая позиция стороннего наблюдателя. Лично у меня религия ассоциируется в большей степени с неким социальным институтом, а «духовность» – с неким опытом или помощью.
Наталия Шок, профессор кафедры социально-гуманитарных наук ПИМУ:
Я немного уточню свой вопрос. Понятие «духовность» считается тем, что может помочь в налаживании более разностороннего межкультурного и межконфессионального диалога. Она более нейтральна, чем «религия», так как в основном используется для обозначения области личного человеческого опыта, исключающей атрибуты религии - институты, верования, ритуалы. Не все ученые, в том числе и врачи с этим согласны. Возникает определенное напряжение по поводу соотнесения этих двух понятий в практике медицины. Кроме того, ряд, например, американских ученых выражают обеспокоенность тем, что «духовность» может в итоге исключить религию из ее традиционных сфер присутствия, например, клинической медицины и клинической биоэтики. Необходимо отметить, что в последнее десятилетие глобальное здравоохранение развивается в двух направлениях: управление здоровьем и охрана здоровья. И в этой связи интересно подробнее узнать, почему, как вы полагаете, усиливается внимание к термину «духовность» в ВОЗ и ООН?
Фабиан Винигер:
Думаю, что ключевое здесь с моей точки зрения было бы неплохо, если бы ВОЗ все же расширила определение здоровья, включив в него и духовный компонент. Внимание к аспекту духовности может помочь глобальному здравоохранению в деле улучшения психического здоровья людей и социальной поддержки населения, а также в построении взаимоотношений партнерства ВОЗ с религиозными общинами на уровне политики.
Андрей Давыдов, старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных наук ПИМУ:
На первый взгляд кажется, что концепция договорного плюрализма очень схожа с идеей толерантности. Как Вы их разделяете? Какова корреляция между ними? Можно ли сказать, что договорной плюрализм предпочтителен? Возможно ли, что в будущем договорной плюрализм займет место толерантности в межрелигиозных и межэтнических отношениях?
Фабиан Винигер: Договорной плюрализм заметно отличается от идеи толерантности и выступает как одна из ее возможных альтернатив. Он основан не только и не столько на терпимости и принятии (зачастую вынужденном) взглядов, убеждений и особенностей других людей, этнических общностей и конфессий. Скорее в его основе лежат уважение и взаимопонимание между людьми с разными системами ценностей, и здесь, в отличие от обычного плюрализма, нет никакого притворства. Уважение же основывается на принятии и высокой оценке других, а также различий между нами. В сущности, договорной плюрализм – это общественный договор, базирующийся на религиозных добродетелях. По сути, договорной плюрализм – это уход от идеи толерантности к идее взаимоуважения при помощи религии. Терпимость вряд ли можно считать лучшим способом решения всех социальных проблем, договорной плюрализм стремится идти дальше в этом направлении.
Ольга Нагорных, доцент кафедры социально-гуманитарных наук ПИМУ:
Идея сотрудничества ВОЗ и религиозных деятелей изначально вызвала смешанную реакцию в самом ВОЗ. Кто конкретно был настроен критически и почему? Было ли что-то сделано для предотвращения такой кооперации? И какова была реакция широкой общественности? Было ли сопротивление этому партнерству со стороны общества и если да, то в каких формах?
Фабиан Винигер: Бессмысленно называть конкретные имена и фамилии членов ВОЗ, выразивших недовольство вовлечением религиозных деятелей в светские дела. Нельзя говорить об их открытом сопротивлении этой тенденции, скорее речь идет о непринятии ими столь радикальных, быстрых изменений в политике и стратегии ВОЗ; по их представлениям, этот пост-секулярный поворот должен был происходить более плавно и постепенно. Они пытались неформально лоббировать свою позицию, но подробности этого процесса сложны в изучении. К этому следует относиться как к мерам предосторожности, предпринятым отдельными членами устоявшейся светской, «элитарной» организации. Широкая же общественность, в отличие от некоторых членов ВОЗ, особой обеспокоенности и недовольства этим не выражала.
Наибольший интерес в ходе лекции вызвали, во-первых, положения, касающиеся исторического аспекта развития международного здравоохранения. Поскольку, по словам Ф. Винигера, на рубеже XIX-XX вв. в медицине происходили быстрые изменения, превращение пациента в биохимический феномен вызвало недовольство врачей, почувствовавших, что что-то пошло не так. Другим изменением, как отметил профессор, стало признание международного характера общественного здоровья, а также появление воздушных перелетов, атомной бомбы и развитие социалистической медицины в Советском Союзе. Следующим интеллектуальным течением, упомянутым в ходе лекции, стал политический холизм, к развитию которого среди прочих приложил руку южноафриканский деятель Ян Смутс, значительно повлиявший на основание Лиги Наций и ООН. Именно в этих условиях была основана Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В преамбуле устава ВОЗ содержалось и хорошо известное определение здоровья как «состояния полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов». На 1-й Ассамблее ВОЗ в Женеве федеральный канцлер Швейцарии, посетивший это мероприятие, призвал организацию внести в это определение и «духовное» измерение здоровья. В первые 30 лет духовность очень редко привлекала внимание членов ВОЗ, отчасти из-за открытого конфликта между Католической Церковью и первым директором ВОЗ Броком Чисхольмом в вопросе о политике регулирования рождаемости (контроля за численностью населения).
Также следует обратить внимание на тот факт, что в 1970-е гг. ВОЗ в силу специфики международной ситуации, преимущественно в странах Азии обратила внимание и на традиционную медицину в ракурсе того, что она предоставит необходимые людские ресурсы для реформирования первичной медпомощи в развивающихся странах. Интересным фактом, отмеченным Ф. Винигером, было то, что отчасти на это повлияло признание ХМК роли местных целителей/знахарей, а также китайских босоногих врачей, произведших сильное впечатление на западных медицинских экспертов. Безусловно, толчком к этому стали и сами деколонизированные народы, убежденные в том, что местные медицинские традиции поспособствовали достижению их культурной и экономической независимости. Таким образом, с 1990-х гг. растительные лекарственные средства стали огромной индустрией в Азии и Африке. В каждом из этих случаев ВОЗ обеспечивала приют для необъяснимых, «духовных» аспектов «традиционной медицины», которые она прежде игнорировала или, наоборот, помогала превращать в товар.
Особое внимание заслуживает интересный ракурс, обозначенный профессором, в рамках анализа космопиетизма, схожего с договорным плюрализмом, утверждающего, что мы должны распространять наш религиозный долг за пределы нашей общины, на весь остальной мир.
Винигер говорил о том, что многие религиозные организации в ООН могут быть названы «космопиетистами». Они работают на благо человечества, как если бы последнее было их собственной религиозной общиной, но при этом настаивают на участии в этом на основе лояльной оппозиции. Но в глобальном смысле космопиетисты – незначительное меньшинство, и за пределами ООН религиозный национализм и политика идентичности гораздо более распространены и заметны.
Наталья Шок: представляется важным, что в лекции продемонстрировано, что академический опыт исследований на стыке медицины и религии в историческом контексте не является искусственным, надуманным, а имеет непосредственную связь как с реальными историческими сюжетами на самом высоком уровне организации здравоохранения – ВОЗ и ООН, но и в связи с реальностью и практическими действиями этих организаций сегодня. Представляется, что российские исследования в области национальных особенностей связи медицины и религии, здоровья, болезни и духовности могли бы значительно дополнить ландшафт зарубежной историографии, в том числе за счет более детального исследования роли РПЦ в международных коммуникациях по вопросам здоровья и этики медицины в период Холодной войны и новейшей истории.
Мероприятие состоялось на базе Центра изучения истории религии и Церкви Института всеобщей истории РАН. Соорганизаторы – Приволжский исследовательский медицинский университет и Государственный академический университет гуманитарных наук.